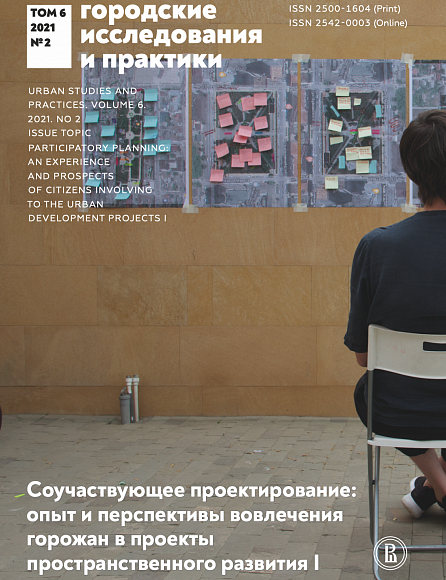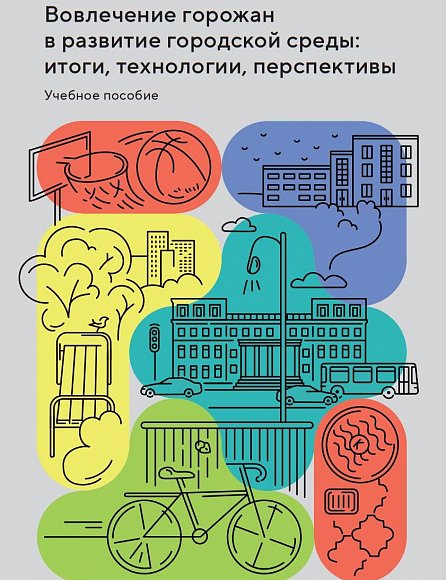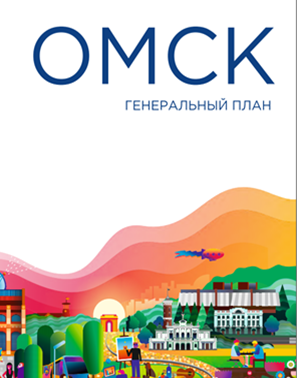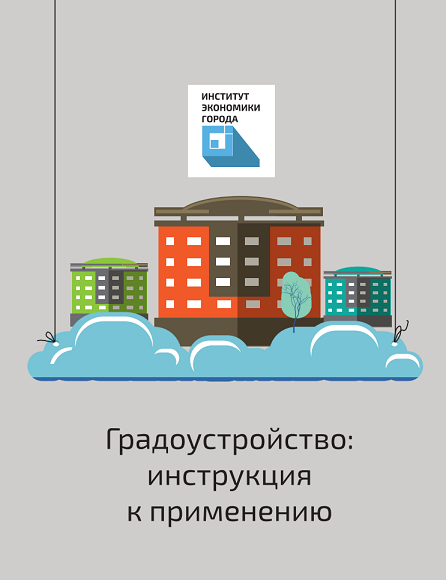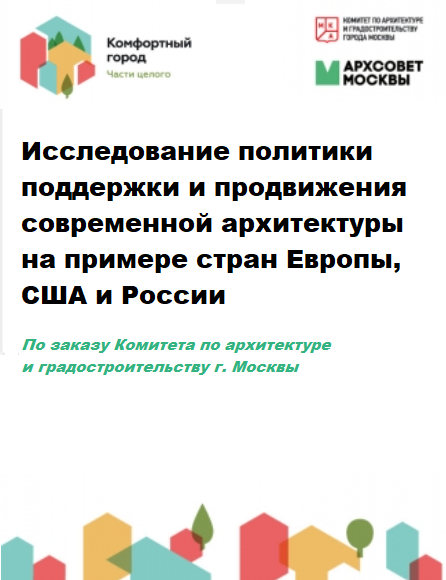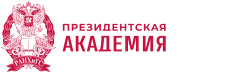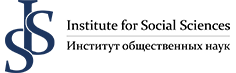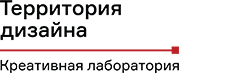Введение
С 2000-х годов в России начала точечно применяться практика принятия решений, касающихся перспектив развития города, с участием заинтересованных сторон—горожан, местного сообщества, предпринимателей, городских активистов, локальных экспертов, органов власти, инвесторов, девелоперов и других агентов. Сегодня подобный опыт совместного принятия решений начинает осмысляться: его описания и релевантные сюжеты фигурируют в научных статьях и журналистских материалах, упоминаются во время выступлений на конференциях [Атлас успешных практик..., 2020]. Метод решения городских проблем сообща популяризируется и на государственном уровне—появляется в программах нацпроектов, профессиональных стандартов. Одним из факторов, повлиявших на становление и популяризацию этой практики в России, оказалась методология исследователя Генри Саноффа, распространившаяся благодаря переводу на русский язык его методического пособия «Соучаствующее проектирование» [Санофф, 2015]. Еще один фактор, ускоривший этот процесс,—издание серии методических руководств прикладного характера (см., напр.: [Снигирева, 2017; Создай свой город, 2018], [Методика оценки заявки на участие..., 2020]). Санофф дает следующее определение: «Соучаствующее проектирование—это процесс проектирования с вовлечением жителей, местных сообществ, активистов, представителей административных структур, локального бизнеса, инвесторов, представителей экспертного сообщества и других заинтересованных в проекте сторон для совместного определения целей и задач развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей, совместного принятия решений, разрешения конфликтов и повышения эффективности проекта» [Санофф, 2015].
В современной российской урбанистике соучаствующее проектирование как явление—один из наиболее актуальных и интересных предметов для исследования. Портфель отечественных практиков постепенно пополняется новыми кейсами, формируется единая методологическая основа практики, определяются возможности и ограничения проектов, выполненных с вовлечением в них бенефициаров. Именно поэтому я предлагаю вместе обратиться к этому предмету и попытаться оценить его со всеми свойственными ему сегодня сложностями.
В рамках задуманного исследования были поставлены следующие вопросы:
• Что входит в понятие соучаствующего проектирования?
• Что в него вкладывают те, кто им занимается?
• Чем соучастие отличается от манипуляции и имитации?
• Применима ли шкала гражданского участия, предложенная Шерри Арнштейн [Arnstein, 1969], к российским практикам соучастия?
• Почему, хотя соучаствующее проектирование, по сути, является универсальным инструментом, в подавляющем числе случаев оно используется в проектах благоустройства (и непопулярно, например, в сфере образования или иных областях, где точка зрения конечного пользователя на проблему так же важна)?
• Почему соучаствующее проектирование оторвано от местного самоуправления и не закреплено ни в одном законе?
• Что является продуктом и результатом соучаствующего проектирования, а также в чем состоят его эффекты (что оно меняет)?
• Как устроена сфера соучаствующего проектирования: кто заказчики и исполнители, что такое ресурсы?
Логика исследовательского поиска определена теоретическими положениями В. Л. Глазычева, собственным опытом наблюдения за практиками соучаствующего проектирования в России с 2015 года по настоящее время, а также практическим опытом на позиции муниципального депутата [Глазычев, 1995].



Цель исследования—зафиксировать основные характеристики складывающейся в России практики соучаствующего проектирования. Для этого было решено провести эмпирическое исследование, основанное на серии экспертных интервью, которые позволят выявить и зафиксировать позиции экспертов из сферы соучаствующего проектирования и, таким образом, определить круг точек зрения на проблемы этой практики.
В ходе работы были поставлены и выполнены следующие задачи:
1. Выделить наиболее яркие примеры реализации проектов с применением методов соучаствующего проектирования и исходя из полученного списка выбрать экспертов.
2. Провести экспертные интервью.
3. Проанализировать собранные мнения: зафиксировать наиболее значимые выводы, определить экспертные позиции, сделать обобщения и отметить вопросы, по поводу которых эксперты расходятся.
В качестве экспертов были выбраны специалисты, не первый год использующие методы соучаствующего проектирования (в первую очередь в малых городах и региональных проектах), опытные практики, авторы методических материалов. Все эксперты, попавшие в выборку, начали использовать данный подход или метод задолго до начала его масштабного распространения в России. Также все эксперты обладают серьезным организационным, административным или профессиональным ресурсом и, таким образом, существенно влияют на развитие практики в России: реализацию региональных и муниципальных программ, создание методических пособий и образовательных программ, определение критериев оценки для федеральных, региональных программ, от которых в том числе зависит финансирование проектов. Каждый из проинтервьюированных экспертов внес заметный и конкретный вклад в становление отечественного подхода соучаствующего проектирования. Для одних экспертов соучаствующее проектирование—основ-ной инструмент и фокус работы, для других—одна из составляющих более сложных (и разнонаправленных) проектов.
В качестве экспертов выступили:
• Наталия Фишман-Бекмамбетова, Советник Президента Республики Татарстан, куратор Программы развития общественных пространств Республики Татарстан. При участии Наталии в Татарстане впервые в широком масштабе была применена практика соучаствующего проектирования.
• Надежда Снигирева, основательница «Проектной группы 8». Компания является пионером в области соучаствующего проектирования в России, реализовала более 200 проектов, основанных на этом подходе, в 60 городах. Автор методических рекомендаций по организации соучаствующего проектирования Минстроя России [База знаний; Снигирева, 2017].
• Петр Иванов, урбанист, социолог, исследователь партиципаторного планирования и соучаствующего проектирования, сооснователь лаборатории «Гражданская инженерия». В качестве городского активиста работал над программой благоустройства московского двора в Тропарево-Никулино с участием горожан.
• Юлия Бычкова, директор арт-парка «Никола-Ленивец», продюсер фестиваля ландшафтных объектов «Архстояние» (Никола-Ленивец) и фестиваля «Арт-Овраг» (Выкса). В своей практике применяет методы соучаствующего проектирования.
• Артем Гебелев, руководитель эксперт-ной группы Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Одна из весомых групп критериев при оценке проектов конкурса связана со степенью участия жите-лей.
• Святослав Мурунов, идеолог и основатель сети Центров прикладной урбанистики. Специализируется на работе с городскими сообществами, внедряет технологию социального проектирования, выступает с последовательной критикой российских практик соучаствующего проектирования.
• Константин Кияненко, доктор архитектуры, профессор кафедры архитектуры и градостроительства, ФГБОУ ВО «Во-легатский государственный университет». Исследователь социальных основ в профессии архитектора и в формировании среды.
• Олег Паченков, директор Центра прикладных исследований Европейско-го университета в Санкт-Петербурге, консультант программы инициативного бюджетирования «Твой бюджет». В основе программ инициативного бюджетирования лежит тот же подход, что и в практиках соучаствующего проектирования.
Интервью проводились с 1 июля по 1 сентября 2020 года в формате он-лайн-конференций. Длительность интервью—от 30 минут до 1,5 часа. Все приведенные ниже цитаты верифицированы интервьюируемыми, получено согласие на их использование с указанием авторства. Со списком вопросов, предложенных экспертам, можно ознакомиться в Приложении 1.
Далее речь пойдет о наиболее значимых выводах из собранного материала, в которых отражены экспертные позиции, сделаны обобщения, отмечены расхождения и выявлены области для последующего изучения.
Составляющие и ценностный базис понятия
Надежда Снигирева считает, что соучаствующее проектирование — это соучастие всех заинтересованных сторон в процессе принятия решений, обсуждения проблем, формирования программы развития территории с учетом реальных потребностей и реального влияния на ситуацию разных интересантов.
По словам эксперта, понятие и определение пришлось сконструировать специально для российского контекста, поскольку в западной практике встречался только «несколько иной» термин participatory design [Muller, Kuhn, 1993]. При этом, по ее мнению, в малых городах—независимо от определения соучаствующего проектирования — у горожан есть понимание, что «самое важное—выстроить открытую, прозрачную, желательно максимально демократическую процедуру, в которой люди принимают решения, определяют программу места».
Константин Кияненко отмечает, что соучаствующее проектирование—это привлечение к процессу создания среды конечных пользователей. Тех, кто станет обитателями этой среды.
Юлия Бычкова дает свою версию: «Соучаствующее проектирование—это вовлечение всех интересантов проекта с самого начала, с зарождения проекта. Вовлечение всех интересующихся лиц, всех пользователей проекта. Это процесс, который генерирует совместные идеи по тому, каким быть общественному пространству, каким быть общественному проекту. С учетом мнения всех интересующихся лиц».
С точки зрения Петра Иванова, соучаствующее проектирование — это вовлечение граждан в процесс принятия решений в области благоустройства (иногда строительства).
Для уточнения содержания понятия соучаствующего проектирования был проведен анализ определений, прозвучавших в ходе экспертных интервью. Все фразы, определения, характеристики, данные в ходе интервью, были разбиты на смысловые единицы, которые затем были объединены в группы. Всего получилось пять групп: «власть/бюрократия», «политика/идеология/ценности», «субъектность», «инструмент/практика/технология», «процесс». С опорой на выделенные группы можно увидеть несколько значимых характеристик, на которые обращают внимание эксперты в своих определениях.
Во-первых, соучаствующее проектирование выступает как новая форма бюрократии, адекватная запросам конечного пользователя. Константин Кияненко отмечает: «В западной практике ключевой ценностной опорой соучастия является оппозиция между представительной демократией и демократией прямой. Как только представительная демократия оказывается несостоятельной решать проблемы, бюрократизируется, так появляется нужда в других формах, трансляции сигналов снизу, на те уровни, где принимаются решения. Это одна из главных опор».
Во-вторых, соучаствующее проектирование не следует рассматривать обособленно: на возможность использования соответствующего инструментария влияют и другие процессы, происходящие в обществе, городе и стране в целом. Влияют также политика и идеология. Одна и та же методика, применяемая в разных ценностных рамках, может кардинально отличаться по сути и по результату. В одном случае она может стать способом трансляции ценностей и построения гражданского общества, в другом—способом взять под контроль гражданские инициативы или имитировать участие.
По словам Петра Иванова, через соучаствующее проектирование мы создаем демократически приемлемую платформу, которая позволяет людям создавать ту конструкцию общественных отношений в общественных пространствах, которая будет всех компромиссно радовать.
Святослав Мурунов отмечает, что соучаствующее проектирование—лишь инструмент: «Технология как молоток. Он либо гвозди забивает, либо по голове бьет. То же самое с соучаствующим проектированием. Основная критика моя, что государство использует соучаствующее проектирование не по назначению».
В-третьих, соучаствующее проектирование—это не только методика: важна и мотивация организаторов, заказчиков и исполнителей. Наталия Фишман-Бекмамбетова отмечает: «Само по себе соучаствующее проектирование не является ценностью. Ценностью является желание услышать людей, сделать так, как они хотят». Определение соучаствующего проектирования зависит от позиции, с которой это определение дается. Эксперты отмечают, что для разных позиций (чиновник, модератор, профессионал и другие) характерно разное понимание сути явления, а также формирование нескольких слоев понимания соучаствующего проектирования.
В-четвертых, наиболее значимая характеристика соучаствующего проектирования—наличие двух фокусов. Первый — соучастие — находится в плоскости коммуникации, взаимодействия, техник и организации процесса и направлено на тех, кто в нем участвует. Второй—проектирование — в плоскости материальной среды и касается проектных решений, рациональности использования ресурсов, работы профессионалов, привлечения экспертизы, разработки программы места. Несовпадение этих фокусов (один направлен на людей, второй на пространство) делает соучаствующее проектирование многослойным понятием, в котором заложено базовое противоречие.
В зависимости от того, на какой из этих фокусов направлено внимание, практики могут либо учитывать сразу оба (и сообщество, и пространство), что бывает редко, либо выстраивать работу вокруг одного из них (чаще внимание уделяется пространству, в то время как сообщество не принимается в расчет или полностью игнорируется).
Исключение—определение, которое дает Олег Паченков. Он уделяет внимание двум компонентам—этическому («связан с развитием общества, демократии, гражданского самосознания и так далее, нельзя насильно осчастливливать людей или причинять добро») и прагматическому («горожане как люди с уникальным пользовательским опытом и носители экспертизы о городе», «профилирование под конкретного очень разнообразного пользователя требует консультации людей»).
Другое противоречие, вытекающее из структуры соучаствующего проектирования, связано с тем, как воспринимается его участник. Первый вариант: участник-субъект, то есть способен осознавать свои действия и быть соавтором изменений. Второй вариант: участник-объект, кто-то привлекает его для участия. Здесь возникает вопрос: горожане изначально субъектны (они сами «эксперты своей жизни»)—или субъектность (осознание возможности и способности влиять на процессы, которые происходят в городе) и есть главный эффект и главный результат соучаствующего проектирования?
К этому вопросу в своих рассуждениях нас подводит Петр Иванов, который обращает внимание на противостояние: «Это главное противоречие соучаствующего проектирования. Оно заинсталлировалось в систему вертикали, в систему бюрократии. Противоречие—потому что наша конструкция власти подразумевает, что горожанин объектен. А здесь ему подсовывают инструмент, который вытягивает людей на субъектность. Дальше на местах возникает клинч этих двух логик. Эта история разворачивается в один из двух сценариев. Есть сценарий того, что это новая форма дворцового бала, который раньше реализовывался с помощью праздника, общественных слушаний или чего-то еще. Теперь это работает «при дворе у мэра» в виде соучаствующего проектирования. Либо это становится стартом некой революции, когда люди понимают, что это инструмент, с помощью которого они могут добиться своего».
Таким образом, по моему мнению, для анализа практик соучаствующего проектирования нужно учитывать более широкий контекст и отвечать на вопросы:
• На каких принципах строится соучаствующее проектирование?
• Есть ли профессиональный кодекс у его инициатора?
• Как процесс соучаствующего проекти-рования отражен в нормативных документах?
• На какие сферы распространено?
• Насколько конкурентна политика города, в котором происходит соучаст-вующее проектирование?
• Является ли соучастие инструментом политической конкуренции?
• Применяются ли в городе форма осуществления горожанами местного самоуправления?
С полной версией текста можно ознакомиться на сайте журнала.